Игорь Померанцев — поэт, прозаик, эссеист, радиодраматург, редактор и ведущий радиожурнала «Поверх барьеров», журналист, советский диссидент, винный критик. Автор книг «Красное сухое», «Радио «С»», «КГБ и другие стихи», «Винные лавки», «Homo eroticus», «Вільний простір» и других. Лауреат серии престижных премий в области литературы и журналистики.
У вас на главном фото в фейсбуке — закрытая поза. Вы сидите почти как роденовский мыслитель. Даже вчера, на уличной презентации (интервью проходило во время фестиваля Meridian Czernowitz), вы немного закрывали лицо рукой. Ваша закрытая поза — это защитная реакция или образ?
— Я думаю, об этом лучше скажут психологи или психоаналитики. Однажды один психоаналитик посмотрел на моё фото — я был запечатлён, сжав пальцы и особенно спрятав большой палец — и вот аналитик мне сказал: это свидетельство того, что вы стремитесь быть закрытой улиткой. Моё место — студия, и поэтому я работаю на радио. Меня никто не видит, я хочу быть наедине с собственным голосом. Я, например, избегаю прямых эфиров, интерактивов, мне нравится космическая капсула замкнутого пространства, которую я размыкаю собственным голосом. При этом я не вижу реакции слушателей, не знаю, показывают ли они на меня пальцем, или крутят пальцем у виска, или смеются. Я бы как раз предпочёл, чтобы они смеялись. Знаете, есть смех определённого рода. Александр Блок обратил внимание на это — когда он читал трагические стихи про пьяниц с глазами кроликов, люди смеялись. Это реакция нервная, эмоциональная. Она подменяет недоумение. Смех ведь рядом со смертью даже в словаре. Есть такие культуры: в них смерти должен сопутствовать смех. Есть в социальной психологии такое понятие: интроверт в роли экстраверта. Вот это мой случай. С другой стороны, я публичный человек, я прекрасно понимаю, что слушатель реален. Я публикую то, что пишу, эссе, стихи. Поэтому меня нельзя назвать скромным человеком. Как у поэта, у меня есть иллюзия — то, что волнует меня, волнует и других. Я предлагаю читателям что-то жизненно важное для меня, и у меня иллюзия, что для кого-то это тоже жизненно важно. У графоманов та же логика, что и у не графоманов. Так это выглядит в теории. Я не очень люблю говорить о себе, я делал передачи со многими выдающимися мыслителями и писателями. Вот, например, с Александром Пятигорским. Ни разу мы с ним не говорили о его философии, всегда выбирали темы по касательной. Это мог быть Сократ, это могла быть “нерусская идея”, и на этом поле он выражал себя как философ. Он никогда не говорил о себе напрямую. Поэтому мне трудно представить свой автопортрет. Я когда-то нашел определение для своей поэзии: летучая мышь, на которую навели фонарик. Я и есть эта летучая мышь, я предпочитаю чердаки и подвалы, а потом, вдруг, вспоминаю, что мышь может и хочет летать. Сложное чувство — с одной стороны, хочется спрятаться где-нибудь в закутке, в тёмном углу, а с другой — хочется всё-таки, чтобы тебя увидели. Поэтому остановимся на образе летучей мыши, тем более, что в связи с пандемией она видится по-настоящему зловещим существом. Но можно быть зловещим и привлекательным одновременно.

Очень важный для меня вопрос: можно ли ставить знак равенства между понятиями эмигрант и переселенец? Что в них общего и что разнится?
— Переселенец — это человек, который мигрирует в рамках своей культуры и своего языка, как правило. Поэтому ему нужно адаптироваться к новому городу, да, но в рамках своей культуры. Эмигранты… эмигранты бывают разными. У каждого человека есть право на эмиграцию. Бывают резоны политические, бывают экономические. Тут меня скорее интересует не собственный частный случай, меня интересует, как изменилось понятие «дом» в двадцатом веке. Это же век жесточайших политических и социальных экспериментов. Например, квартирный вопрос в Советском Союзе Сталин решил очень просто, он выстроил огромную систему ГУЛАГа. Миллионы людей поселились просто в бараках. Гитлер тоже решил ряд квартирных вопросов, когда миллионы людей были не просто выселены, а уничтожены, я говорю о Холокосте. Потом уже, когда революционная лава замедлила своё движение, в Советском Союзе появились коммунальные квартиры. Люди должны были жить в притирку, люди должны были дружить по социалистической идее, но они вместо этого начали ещё больше ненавидеть друг друга. В двадцатом веке радикально изменилось понятие дома, появилось огромное число людей, которых можно называть эмигрантами, а можно называть перемещёнными лицами. Это понятие юридическое, оно возникло после Второй мировой войны, и речь здесь идёт о миллионах людей. Displaced persons, перемещённые лица, они бежали в Северную Америку, в Южную Америку, среди них были, например, военные преступники. Там было огромное число самых разных людей. И среди них люди, близкие мне — политические эмигранты. Но я чувствую близость и к беженцам, и к невозвращенцам. Это моя нация. Это означает, что у меня есть соотечественники, это означает, что у меня есть родина. Вот она, моя родина! Анна Ахматова когда-то с брезгливостью писала об эмигрантах, ну не любила она их, а я не без гордости говорю — это моё родное — мигранты, беженцы, бродячие собаки Европы.
В какой-то степени ваша эмиграция тоже была вынужденной…
— Мне часто и агрессивно дышали в затылок, скажем так. У меня был конфликт с государством. Государство в этом конфликте представлял КГБ. Я был молодой писатель, я хотел читать то, что мне интересно, писать то, что мне интересно. Я хотел высказываться. И получилось так, что я читал запрещённые книги. И это чтение угрожало моей свободе. Об этом шла речь на допросах, и там-то мне порекомендовали покинуть Советский Союз как можно быстрее.
Я читала, что именно в эмиграции вы начали говорить по-украински. Это правда?
— Я знал украинский язык, потому что я его любил. В детстве я прочёл сотни книг по-украински, в основном, приключенческих и фантастику. В школе у меня была твёрдая четвёрка по украинскому языку. Это были залежи. И оказалось, что моя четвёрка чего-то да стоит. Меня пригласили выступать в Мюнхене в Украинском Свободном Университете, прочитать лекцию о подпольной украинской культуре в СССР, и, конечно, они ожидали, что я буду говорить по-украински. Мне было в радость говорить по-украински. Эти роскошные перекаты украинских слов во рту, я словно участвовал в своеобразном лингвоприключении. Начался мой роман с языком. Наша любовь была взаимной. У этой любви была и практическая жилка. Первые мои контакты в эмиграции были не с русскими политическими эмигрантами, а с украинскими. Первое приглашение выступить на «Радио Свободе» в Мюнхене я получил от украинской редакции. В первый раз я вышел в эфир не на русском языке, а на украинском. Я написал несколько небольших эссе по-украински, и мой редактор, выдающийся украинский поэт Игорь Качуровский, не сделал тогда ни одной правки. А писал я всё-таки о поэзии. Это был маленький очерк «Замовчана поезія» о Киевской школе поэзии. Очень значительное явление в украинской литературе, которое в Советском Союзе замалчивали.

Поэзия — это возможность размотать клубок культуры или наоборот смотать его, вплетая в него свою биографию, впечатления, мировоззрение?
— Поэзия — это текучее понятие. Смысл как раз в том, чтобы каждый раз переназывать её по-разному. Кроме того, у поэзии много разных функций: есть понятия «культурная память», «историческая память». Есть, конечно, собственно исторические исследования, но поэзия — это память языка. Без поэзии язык бы обмяк, лишился бы собственной памяти. Склерозом страдают не только люди. Поэзию мы ещё в школе учим наизусть, это классика, и в ней было очень много незнакомых для детей слов. Это функция чисто педагогическая, но она очень важна. Как бы ни говорили, что в школе, мол, отбивают вкус к литературе, — ребёнок в принципе не может воспринимать поэзию, литературу как зрелый человек. Поэтому дети учатся понимать поэзию на улице, с помощью скабрезных куплетов. Также хороша для этих целей блатная песня, такая романтизация, да? Фекальная тематика очень хорошо работает в детстве, потому что в это время у человека ещё свежа память о его физиологическом состоянии. Когда меняют пеленки, памперсы — ребёнок не помнит этого сознательно, но это остаётся в физической памяти. Поэтому фекальные стихи хорошо запоминаются, и благодаря им ребёнок начинает понимать, что такое поэзия, потому что поэзия должна к тебе прикасаться.
Эта образовательная структура находит выражение в русском шансоне и рэпе, примитивной попсе и прочих простоватых культурных форматах?
— Вы правы, потому что большинство людей остаются инфантильными, когда дело касается художественного вкуса. Мы сейчас в Черновцах, я тут вырос, в детстве я был настоящим киноманьяком. В 10 утра начинались сеансы в кинотеатре «Жовтень», и я уже дежурил у входа. Я смотрел по преимуществу приключенческие фильмы, «Три мушкетёра», «Железная маска», «Фантомас». И позднее подумал: я был единственным ребёнком в кинозале, все остальные были взрослыми. Они до сих пор сидят в этом кинозале, вот в чём загадка. Если бы мне сейчас пришло в голову пересмотреть «Железную маску», это было бы прагматичное намерение. Например, вспомнить какие-то кадры для рассказа, воспоминания о детстве. Но все эти люди до сих пор смотрят «Железную маску», они были, есть и будут инфантильными. Поэтому поэзия камерна. В этом её достоинство, но в этом и её слабость, в отсутствии широкого резонанса. Но ей, с другой стороны, и не нужен широкий резонанс, потому что поэт пишет наедине с самим собой. И он представляет себе не читателей, а какого-то единственного читателя. Да, поэзия уязвима в социальном смысле, но её выручает художественная сила.
Много физиологии в поэзии?
— Это зависит от поэта, это индивидуально. Есть поэты, у которых сочетание физики и метафизики — идеальное. Была даже такая школа поэзии в Елизаветинской Англии, её главный представитель Джон Донн. Речь идёт не только о физиологии и метафизике, речь идёт о лексике прежде всего. В английской поэзии своя нервная система, в украинской поэзии — своя. Смысл украинской поэзии в том, чтобы дать языку выжить, это длится около трёхсот лет, и в этом экзистенциальная сила украинской поэзии. Языку нужно было выжить, и он выжил благодаря поэзии! А нерв английской поэзии — в чередовании и противопоставлении англосаксонской почвенной лексики и латинских корней. Через норманнов, через французов в английский язык привнесены сорок процентов латинских корней. Это огромное число. Почти все абстрактные понятия в английском языке передаются латинскими словами. И нерв английской поэзии, её интрига, в том, как чередуется доминанта — побеждают ли слова англосаксонские или франко-латинские. В творчестве елизаветинцев эти две стихии нашли свою гармонию. Особенно — у Джона Донна. Он может писать о блохе как о переносчице плотской любви. Укус, кровь, обмен кровью возлюбленными. И при этом он метафизик. Он видит задумку Творца за повседневными явлениями. Взять, например, глаз. Функция глаза — видеть. Но глаза — это ещё и открытие тебя миром, и открытие мира тобой. Вот это очень важно понимать каждому, кто работает со словами, будь это радио или литература. Даже на радио, простые вещи, новости, например, — люди слушают их с жадностью, это значит, что человек любопытен. Или вот интервью. Ну поговорили, да? А ведь это интервью свидетельствует о том, что люди способны разговаривать, способны вступать в диалог. Что они открыты, что они узнают что-то новое друг о друге. Или, например, жанр полемики. Люди готовы насмерть стоять за свои взгляды, ведь «полемика» переводится с греческого как «война». Поэтому даже когда мы говорим о журналистских жанрах — всё равно, там есть своя метафизика и своя философия.
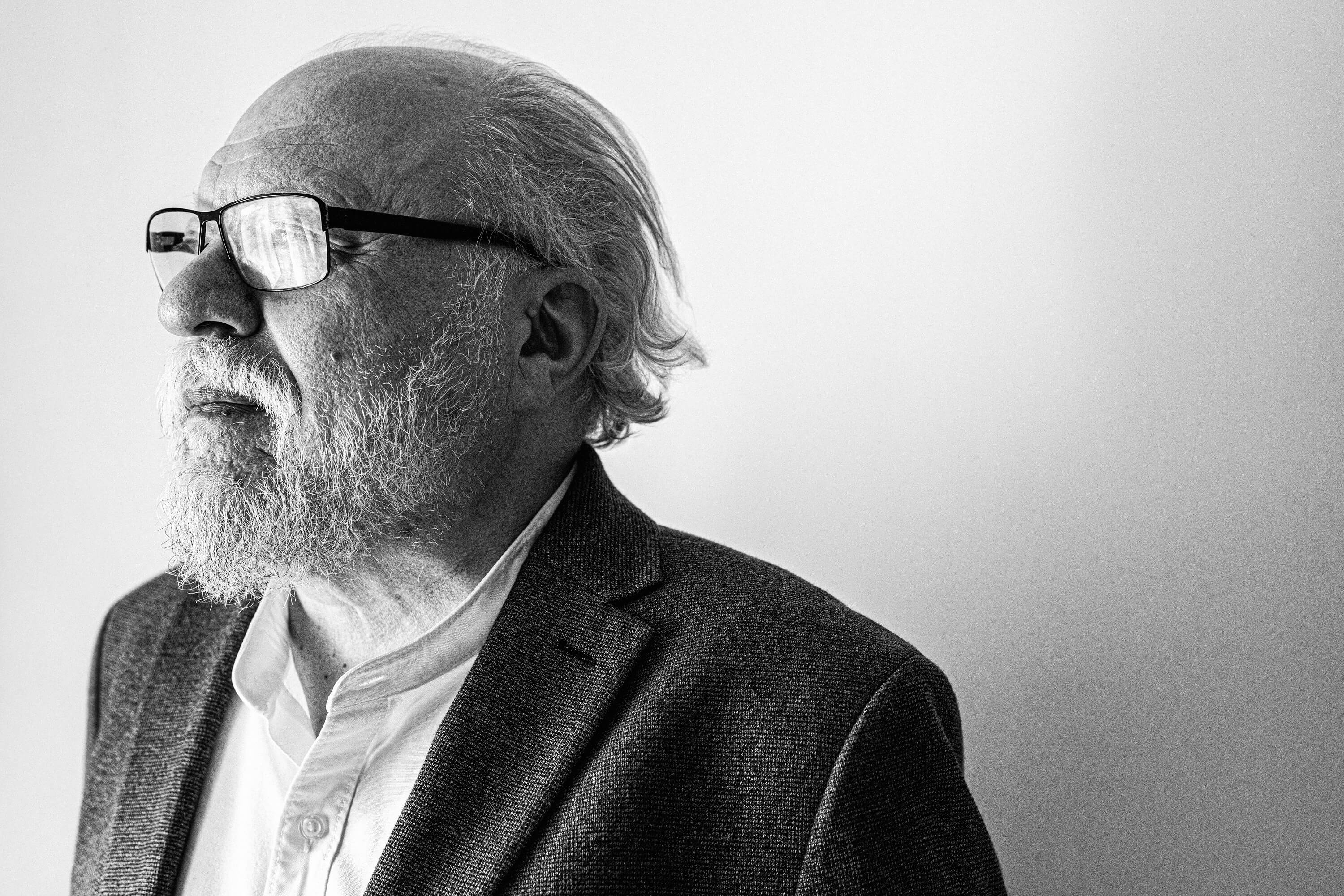
Что заставляет людей не слушать радио, а именно слышать его?
— Это игра слов. Известно, кто нас в основном слушает. Это домохозяйки за гладильной доской. Это очень осмысленное времяпрепровождение. С одной стороны, ты делаешь хорошее дело для семьи, с другой стороны — ты знакомишься с чем-то новым. Потом, нас очень много слушают художники, когда они пишут свои полотна. Рука движется, а уши включены. Мне как-то написала художница и писательница Инна Лесовая, она примерно в тридцать лет утратила зрение. Она написала мне: «Не забывай, что радио — любимое искусство слепых». Это такие целевые аудитории. Но есть ещё люди, которые слушают конкретные программы, я, например, очень люблю ВВС3, классическая музыка, джаз, иногда очень изысканная проза. Я особенно люблю ВВС3 потому что я с ним сотрудничал, там звучали мои рассказы, читал их выдающийся актёр Рональд Пикап, он сам выбрал эти рассказы. Он известен благодаря роли Оруэлла на телевидении. Для меня особенный повод для гордости — Пикапа выбрал для чтения своих рассказов Сэмюэль Беккет. Вот такая связь. Беккет выбрал Пикапа, Пикап выбрал меня. ВВС3, ВВС4 — это радио для людей с высшим и средним образованием. Радио для людей, которые понимают музыку с одной стороны, а с другой стороны — понимают сложносочинённые предложения. Большинство людей ведь предпочитают простые распространённые.
Перетекла ли украинская водочная культура в винную? И была ли она водочной?
— Мы переходим в зону допущений и профанаций. Я не думаю, что я могу полно ответить на этот вопрос. Я разбираюсь в культуре, искусстве, да, но давно живу на Западе и украинских тонкостей не знаю. Есть множество прекрасных украинских аналитиков, которые разбираются в вопросе лучше меня. Единственное, что я могу сказать, что я вижу в свои приезды — есть движение вперёд, движение к Европе, и люди культуры, те, с кем я общаюсь, работаю — уже давно граждане Европейского Союза, а я, как британец, оказался выброшенным из Европейского Союза. Жизнь непредсказуема! Мой британский паспорт, когда-то один из самых мощных документов в мире, теперь хромает на обе ноги. Теперь, например, я не могу жить в европейской стране больше 90 дней, ни в Австрии, ни во Франции, а я мечтал всё-таки завершить свой не только эфирный путь в Триесте. Это была бы интересная траектория. Я вырос в Черновцах, на пересечении культур, в бывшей Австро-Венгрии, я двадцать лет живу в Праге, это тоже бывшая Австро-Венгрия, и мне хотелось завершить свой жизненный путь на юге бывшей империи, на берегу Средиземного моря. Я хотел купить там небольшой домик, жить на фоне немецкого языка с вкраплениями итальянского и разных славянских языков, но теперь эти мечты разбиты вдребезги.
Может быть, британцы одумаются?
— В любом случае, мы будем жить среди осколков империй.
Сколько проходит времени до того момента, когда ноги отвыкают от разбитого асфальта и привыкают к ровному?
— Это очень быстро происходит. Я помню, моего немецкого друга, писателя, пригласили выступать в Румынию, и он сломал ногу в первый же день, он не привык к рытвинам. Я вот тоже два раза споткнулся в Черновцах.
Ваши книги — как винный купаж. Это не просто сборники стихов, это и эссе, и заметки, и проза под одной обложкой…
— Я действительно жанровый перебежчик. Это мой выбор. С годами писатели начинают повторяться. Я когда-то брал интервью у классиков — Дюрренматта (классик швейцарской литературы, драматург и писатель), Лоренса Даррела (английский писатель, брат Джеральда Даррела), я спрашивал у них, не боятся ли они самоповторов? Они отвечали — мы умеем только писать, больше ничего. Я думаю, в этом случае писатель имеет право на хитрость, как только его рука начинает выводить буквы автоматически, ему лучше сменить жанр. Ради риска. В каком-то смысле это моя стратегия. Я не хочу быть похожим на самого себя. Вот посмотрите, классики двадцатого века, например, Грэм Грин (английский писатель, разведчик, автор остросюжетных романов) или Лоренс Даррел, они с годами писали всё хуже и хуже. Всё равно это англо-саксонская школа, это выше плинтуса всегда. Тем не менее, их поздние романы написаны хуже тех, что они писали в молодые и зрелые годы. Это пример того, как не нужно поступать. Поэтому когда я чувствую, что оптика замылилась, что я пишу почти на автомате, что у меня есть набор авторских клише — я ухожу в другую зону, где я рискую. Когда ты рискуешь, ты переоткрываешь и литературу, и себя. Но риск связан с тем, что читатель может не оценить этого, не понять. Читатель консервативен, он ждёт от тебя того, что ты умел прежде. Но тут уже — читатель читателем, а писатель писателем. Но талантливый читатель всё поймёт и примет. Это ведь и в жизни так — мы часто живём по инерции. Я говорю об автоматизме жизни прежде всего. Один и тот же колодец, одно и то же ведро. У писателя всегда есть то, что называется стилем, но это можно назвать и набором приёмов. Я для себя выбрал эту стратегию — путешествия по жанрам. А где путешествие — там и приключение, где приключение — там и фантастика. Для меня это оправданный риск.
Расскажите о жанре интервью. Вы — человек, с огромным опытом в этом жанре. В чём его специфика, в чём его тонкость?
— Есть разные тактики ремесла интервью. Есть журналисты, которые рассчитывают на своё обаяние. Я не рассчитываю. Я всегда готовлюсь. Провожу так называемый research, составляю круг вопросов. Но оставляю место и для импровизации. Собеседник ценит, когда интервьюер готовится к разговору. Самое ужасное — это начать с вопроса: «Расскажите о себе». Это очень скучно, это объективное, это интервьюер должен подготовить самостоятельно. А герою нужно полностью отдать личное. Главное, чтобы сложился разговор, но точного рецепта тут нет. Есть журналисты, которые любят провоцировать собеседника. Они готовятся, как и я, но задают неприятные вопросы. Если ты согласился давать интервью, если ты публичная фигура — ты должен быть готов к любой реакции. Если вопрос неприятен — можно на него не отвечать. Некоторые нервно реагируют, срывают микрофон, уходят. Я думаю, что это проявление слабости. Мы все разные. Есть вот, например, неотразимые женщины-интервьюерки, они могут позволить себе буквально всё (смеётся).
Вы говорили на творческой встрече об Осипе Турянском, он написал украинскую повесть «Поза межами болю» фактически изнутри Первой мировой войны. Проза Хемингуэя и Ремарка также написана с дистанцией. Как вы думаете, писатель должен описывать войну немедленно, по факту, или он должен взять паузу на осмысление?
— Всё зависит от авторского темперамента, от жанра. Поэзия спонтанна, поэзия фиксирует состояние человека и состояние языка синхронно с событиями. Ремарк написал роман спустя десять лет после войны. Ричард Олдингтон (английский поэт, писатель, имеется в виду роман «Death of a Hero»), Роберт Грейвз (английский поэт, теоретик литературы, писатель, имеется в виду роман «Good-Bye to All That») англичане, писавшие о Первой мировой войне, — тоже спустя примерно десять лет. Если вернуться к поэзии — она тут смыкается парадоксальным образом с репортажем, с искусством репортажа. Я часто привожу в пример английских окопных поэтов (молодые английские поэты, участвовавшие в Первой мировой войне: Руперт Брук, Вилфред Оуэн, Зигфрид Сассун, Роберт Грейвз, Джулиан Гренфелл и другие), многие из них погибли на фронте. Именно они положили конец традиции восхищения войной, прославления войны. Они отошли от того пафоса, который берёт своё начало у Гомера, а потом находит развитие у Шарля Пеги (французский поэт, монархист, консерватор) и Киплинга. Они нашли новую лексику, новые образы. Стихи о том, как крысы бегают между трупами. Эти стихи сделаны из комков грязи, крови, мочи, пота. Это было для георгианцев (культурное поколение в Британии 1910-х годов) потрясением, открытием темы, открытием лексики. Я часто вспоминаю чудесное стихотворение Вилфреда Оуэна «Часовой». В дзот вваливается часовой, он ранен, потерял зрение, и он кричит: я ничего не вижу. Товарищ подбегает к нему со свечой, видишь? видишь? Нет, ничего не вижу, отвечает он. Затем ещё одна бомбёжка, все мертвы, и вдруг слепой кричит: I see the lights (Я вижу огни), и это значит, что он совершенно слеп. Это был литературный подвиг: найти новую оптику, новую лексику для этой мясорубки. Связано это с тем, что война утратила индивидуальные свойства, стала тотальной, появилось автоматической оружие, появились другие военные механизмы. Сейчас мы тоже живём в условиях мировой войны с коронавирусом. Это новая война, новый формат войны. Это война, где нет ни фронта, ни тыла, где мы все уязвимы. Где мы пехотинцы, пленники и заложники сразу. Я написал стихотворный цикл «Иммунный ответ», в нём описывается наше сегодняшнее состояние. У меня сын переболел в первую волну коронавирусом. Мы все очень переживали. И я сам нахожусь в группе риска. Это особенное состояние, очень чутко на всё реагируешь. Ищешь статистику смертей, нашли ли новое лекарство? Я на передовой. Я совершенно неожиданно для себя стал поэтом-фронтовиком.

То есть, поэзия — это реакция?
— Да, поэзия реагирует спонтанно, синхронно. Прозе нужно время, чтобы случиться. Память прозаика и поэта — это очень разные памяти. Прозаик помнит события в их последовательности, поэт помнит ассоциации. И поэтическая реакция поэтому быстрее. Часто точнее.
Вы читаете современную украинскую литературу о войне? Можете выделить сильные тексты?
— Я понемногу утрачиваю способность читать. Из-за глаз. Поэтому мне трудно судить. В молодости ты читаешь всё. А в зрелые годы… я вспоминаю строки Леонида Первомайского: «Наближається срібний автобус, залишається мало часу». Вы молоды, наверное, не помните, в семидесятые годы хоронили в автобусах. Серо-серебристые автобусы увозили на кладбище. В моём детстве гробы увозили на подводах. Я даже написал об этом рассказ «Под музыку Шопена», там мальчик, он живёт в Черновцах недалеко от кладбища, у него есть театральный бинокль, он смотрит. И это для него большое театральное событие, он рассматривает людей, он рассматривает детали церемонии. Его поразило однажды, что в гробу лежал такой же мальчик, как и он сам. Так вот, в молодости было много времени читать книги, а сейчас приближается серебряный автобус, и я своё время начал беречь. Я даже для написания стихов использую метод research, то есть, поиск, исследование, предварительная работа. Я считаю, что литературный текст должен быть интересным, это непременное условие, а если повезёт, тогда он может быть и талантливым. Но интересным — это непременное условие.
Если бы вы родились не в Советском Союзе, а в свободной стране, если бы вы не испытали идеологического прессинга в молодости — вы ведь все равно стали бы путешествовать? Вести такой кочующий образ жизни, как сейчас?
— Я всегда любил книги о путешествиях — поэтому, да, стал бы. Другое дело — почему я так много путешествовал. В какой-то момент я понял, что это форма географического невроза, уход от чего-то. Это не просто весёлый путешественник с рюкзаком шагает по Альпам, по Сахаре. Это форма невроза. И это нормально — потакать себе. Это обостряет твой слух, зрение. Это работа — путешествовать. Сейчас путешествие немножко утратило свой первоначальный смысл — «шествие путём», да? Мы путешествуем самолётами и не чувствуем путешествие как процесс. У нас есть цель, но у нас нет того опыта, который был, например, у Марко Поло, он годами ехал, шёл, запоминал, потом делился впечатлениями с другими. Но сейчас сохранились консервативные путешественники, пилигримы, например. У них есть цель, путешествие — это форма духовного роста для них. Самолёты многое у нас отобрали, но и многое дали взамен. Можно посетить множество стран. Да и вообще, путешествие на самолёте стало аналогом путешествия во времени. Можно прилететь в девятнадцатый век, можно прилететь в теократическую страну и оказаться в Средневековье. Где pro, там и contra, как говорится. Но я не обольщаюсь в отношении себя. Я понял, что не люблю открывать новое, я люблю переоткрывать старое, возвращаться туда, где я уже бывал и чувствовать что-то по-новому. Мы сейчас в Черновцах, и я вслушиваюсь в свой город, меня очень радует украинская речь, мне не хватает немецкого языка, но тут, на фестивале, есть немецкие поэты. Иногда я слышу румынскую речь, я в детстве очень любил румынский язык, не только на улице, но и по радио, здесь ловили румынские волны, меня всегда зачаровывало дикторское объявление «Ora exacta». Мне казалось, что это имя прекрасной девушки, но потом оказалось, что это значит — «точное время». Я хотел в молодости взять такой романтический псевдоним — Ora Exacta. Чего мне не хватает в Черновцах — это языка идиш. Он был в Черновцах всегда. Помню, мы с мамой ходили на рынок, и я слышал чудные разговоры — смесь идиша и гуцульской говорки. Еврейские дамы торговались с гуцульскими крестьянками и понимали друг друга прекрасно.

Расскажите о своей семье. Об отце, о брате. Вы с ним, насколько я понимаю, очень разные. Расскажите о сыне. Что такое семья Померанцевых?
— Я никогда не задумывался об этом. Что для меня важно? Когда мы переехали в Черновцы из Читы, из Забайкалья — я в шесть лет вдруг открыл для себя, что родители свободно общаются на неизвестном мне языке. Это был украинский язык. Отец ещё и писал на нём свободно. Он был военным корреспондентом во время войны и потом работал в окружной газете Забайкалья до 53-го. Отец был родом из Одессы, поэтому мог говорить и писать по-украински. Так что и для меня украинский стал почти родным. И свой винный инстинкт я унаследовал от отца. Через Одессу, через Средиземноморье. Ещё для меня важно то, что моя мать из Харькова. Там специфический русский язык, со своими словами, я с детства знал слово «тремпель». Мать замечательно придумывала новые слова. Отец был профессиональным журналистом, писал в основном фельетоны. Я помню запах чернил, спину отца за работой, как он читал вслух по-украински, это было для меня естественно — сидеть над бумагой и что-то с ней делать. У нас была хорошая дореволюционная библиотека, отец был книгочей, коллекционер. У нас был Гоббс, Спенсер, Ницше, много чего замечательного. Библиотека не сохранилась, в эмиграцию не выпускали с ценными книгами. Тем не менее, запах чернил, стук печатной машинки, библиотека — к этому я привык с детства. А что касается брата — да, один ребёнок в семье был спортсмен, другой — поэт. У брата тоже было очень чуткое отношение к слову, он много остроумных слов придумал, но выбрал другой путь. Ему прочили чемпионство Европы по самбо и по дзюдо, но он оказался психологически хрупким. В двадцать лет он вдруг утратил дерзость на борцовском ковре. Он вёл себя как Гамлет, а в спорте так нельзя. Нужно быть жестоким. Тренер говорил ему: «Валёк, видишь, у него бандаж на колене, бей под бандажом, у него там травма!» Мой брат не был готов к борьбе такого рода. Он был чемпионом Украины и самым молодым мастером спорта в Украине. Когда ты достигаешь такого успеха в молодом возрасте — ты должен либо сделать резкий рывок в другую сторону, либо начинается ломка, депрессия. Он рано умер.
Есть какое-то одно качество характера, присущее всем Померанцевым?
— Нет, конечно. Все мы разные люди. Но есть вот что: знаете, в Средние века были профессиональные гильдии. Ты родился в семье золотаря — и будешь золотарём, родился в семье ткача — и будешь ткачём. Осталась близость к языку. Мой племянник не писатель, но он президент литературного фестиваля. Средние века давно прошли, а элементы средневековой структуры в некоторых семьях сохранились. Мой сын — британский писатель, мой отец — журналист, в Одессе кто-то из клана был автором книги об одесских синагогах. Так что Средневековье прошло, а люди остались, и какие-то традиции передаются до сих пор из поколения в поколение. Моему сыну повезло, что я не золотарь.
Игорь Померанцев — поэт, прозаик, эссеист, радиодраматург, редактор и ведущий радиожурнала «Поверх барьеров», журналист, советский диссидент, винный критик. Автор книг «Красное сухое», «Радио «С»», «КГБ и другие стихи», «Винные лавки», «Homo eroticus», «Вільний простір» и других. Лауреат серии престижных премий в области литературы и журналистики.