Украинский прозаик, поэт, художник, искусствовед.
Прежде всего, хотел бы спросить — как ты понял, что хочешь писать художественную прозу?
Это происходило настолько постепенно, что трудно сказать. Получилось так, что я большую часть своей жизни воспринимаю все вокруг себя сквозь призму литературы, возможно, потому что с детства меня окружали книги, которые принадлежали моим прапрадедушке, прадедушке, дедушке, бабушкам, матери, отцу... я и сам рано начал собирать собственную библиотеку. Другая причина в том, что в школе меня учила замечательная Наталья Николаевна Сидоряк, учительница русского языка и литературы, и, кстати, дочь украинского писателя-шестидесятника. Во время уроков произведения, которые мы проходили, каким-то фантастическим образом адаптировались к реальной жизни, к настоящему: истории персонажей, их поступки, проблемы привязывались к нашему опыту, даже больше — Наталья Николаевна литературные ситуации подкрепляла примерами из своей собственной жизни, из своего опыта. Это было классно, красиво и органично. У нее был очень неформальный подход к преподаванию, очень свежий и оригинальный. Парадоксально, но она умела так рассказать историю русской литературы, что литература эта становилась украиноцентричной. Это очень интересно на самом деле: учительница русской литературы привила мне любовь к литературе украинской. Кажется, в 16 лет я уже твердо знал, что стану украинским писателем.
А как ты вообще относишься к литературе? Что она лично для тебя значит?
Для меня литература — это, пожалуй, что-то похожее на сверхмощный наркотик. Для меня как для писателя, я имею в виду. Я не могу без этого. Я не могу не писать. Но литературное творчество — отнюдь не наслаждение, я не наслаждаюсь в процессе письма; это не счастье,
счастье все-таки в другом; это не вдохновение, даже больше страдание, чем вдохновение...
Меня всегда удивляют писатели-алкоголики или писатели-наркоманы, потому что когда ты сидишь на литературе, какие еще нужны зависимости.

То есть, литература — это такая высшая форма зависимости?
Лично для меня — да... Знаешь, мне вообще странно, когда у писателя что-то спрашивают. Я вообще бы с этого начал разговор. Спрашивать у писателя, искать ответы, общаясь с писателем, — как по мне, достаточно странное занятие.
Почему?
Возможно, потому, что писатель — это вообще не тот человек, который отвечает на вопросы, это, скорее, человек, который вопросы задаёт. Мы просто привыкли к русской традиции, — «писатель как пророк, как мессия» — что он должен отвечать на вопросы. Но Толстой, например, был гениальным именно тогда, когда не отвечал на вопросы, а только ставил их. Мне странно, когда журналисты что-то у писателя спрашивают. «А что вы скажете по
ситуации на Донбассе? А по поводу языкового закона что?» И писатель начинает вещать. Для меня это выглядит неорганично, абсурдно. Что тут можно сказать? Писатель все же не пифия и не дельфийский оракул. Это же вечный и сознательный дилетант. Ничего не знает, ничего не умеет. Ребенок, который бегает у всех под ногами, дергает взрослых за рукава и спрашивает: «А это что такое? А это как работает?».
Писатель не должен высказываться — ты об этом?
Нет, он может и должен говорить, преимущественно писать, но, возможно, не нужно в его высказываниях или в его творчестве искать ответы. По крайней мере, в большинстве из этих высказываний. Я об акцентах говорю. Писатель в каком-то смысле сам интервьюирует окружающий мир. В своих книгах он прежде всего ставит вопросы, ответы на которые должен найти другой, читатель. Как-то так.
Если я правильно понимаю логику вопрошания писателей — расчет делается на то, что писатель находится вне всякой социальной или политической конъюнктуры, поэтому может дать неангажированный и взвешенный ответ на остросоциальные вопросы. Но и твою логику я тоже понимаю. Поэтому хочу спросить — кто, какая социальная группа, имеет моральное право отвечать на вопросы?
Не знаю. Точно не писатель, на мой взгляд. Отвечать на конкретные вопросы, в первую очередь, должен профессионал в этой конкретной области, из которой взят поставленный вопрос. А по поводу неангажированности писателей... Ты таких встречал?
Хорошо, давай мы оставим общественно-политическую плоскость. Недавно в литературных кругах возникла небольшая дискуссия — какой должна быть проза? Конкретной, четкой, атлетической или поэтичной, чувственной? И у меня два вопроса по этому поводу: как ты считаешь, должен ли писатель комментировать свое творчество? И второй: что ты думаешь по поводу разделения прозы на конкретную и поэтическую?
Начну со второго: все зависит от творческих задач, которые ставит перед собой писатель. Проза может быть поэтической, может быть конкретной. Это просто способ для писателя высказаться, создать собственный художественный мир, и он выбирает для себя такой путь и такие инструменты, которые для него наиболее комфортны. Единственное, что действительно важно: (по крайней мере, сейчас это важно для меня) в литературе не должно быть категоричности. «Должно быть только так» — вот этого следует избегать. Возможно, время категорических утверждений в литературе прошло? Как ты думаешь?
А по первому вопросу — конечно, автокомментирование может быть полезным и интересным, я много литературоцентричных вещей слушаю/читаю с интересом, но мне, в моем конкретном случае, автокомментирование даже не столько не нужно, сколько неинтересно. Пока неинтересно... Но, возможно, с конца лета все изменится.
Я знаю, что ты довольно долго шел к осознанию собственной поэтики, осознанию литературной ценности собственных текстов. Когда ты понял, что уже можешь публиковаться?
Я просто устал выбрасывать написанное. Я долго писал, потом выбрасывал, снова писал, выбрасывал. Наконец, устал выбрасывать. Плюс, я понял, что меня уже не так раздражает написанное год назад, два года назад. Раздражает, но не смертельно. Поэтому решил, что и других не должно слишком уж раздражать. Нужно просто переждать этот момент.

Расскажи о своей книге «Лето-АТО», вышедшей в издательстве «Люта справа». Как она писалась, что тебя вдохновляло?
На самом деле, это две книги. Они должны были выходить в разных издательствах, и в начале сентября 14-го были полностью завершены. Одна книга о Майдане, другая о первых месяцах АТО, до Иловайской трагедии включительно. И там два разных уровня авторского присутствия. События Майдана описывались с расстояния в несколько метров, даже сантиметров. События войны, наоборот, словно взгляд на войну из тыла. Это преимущественно рассказы, которые эхом докатились с фронта в тыл, трансформировавшись по пути в сказку, в миф, и существующие в обрамлении других историй, других повестей, к теме АТО не имеющих на первый взгляд никакого отношения.
Когда я начинал в сентябре 2013 года первую повесть, мне хотелось сделать что-то вроде прозы Сёй Сёнагон. Но учитывая, конечно, и сотни лет литературной истории, которые прошли со времен ее творчества, и огромные различия в японском и украинском контекстах.
Мы вот сейчас сидим на Печерске, рядом с Ботаническим садом, мне хотелось написать именно об этом киевском районе. Это такой себе дневник впечатлений — каждый день я выходил из дома, чтобы написать что-то. Это напоминало этюды с натуры, которые пишут художники. Но этюды необычные — предметы и явления здесь трансформированы в сюрреалистически-мифологические образы. Я писал сентябрь, октябрь, ноябрь — и понял, что проза остается слишком плоской, ей чего-то не хватает. Это все напоминало выставку живописных работ, возможно, неплохих, но написанных в одной манере, очень похожих между собой по колориту. Проза, на мой взгляд, слишком монотонная, слишком ровная, ей не хватало нерва, акцента. Я уже думал прекращать эксперимент, но случился Майдан, и оказалось, что трагедия, смерти, боль, борьба Майдана — это именно то самое, чего этой прозе не хватало. Яркое пятно крови на законченном снегу наполнило глубокими смыслами все другие написанные фрагменты. Майдан вывел эту размеренную прозо-поэзию на новый уровень, трансформировал ее в нечто большее.
Ты использовал такую интересную метафору — проза, как выставка. Я знаю, что ты тесно связан с живописью: насколько здесь происходит взаимовлияние живописи и литературы?
Я по образованию искусствовед — это и есть моя точка сборки. По большому счету, искусствовед — это переводчик, переводчик с языка живописного, нарисованного образа на более универсальный для человечества язык слов, предложений... Для меня органично быть человеком на границе визуального и вербального. Вообще, быть на границе чего-то с чем-то. Свой среди чужих. Работать на стыке прозы, поэзии, живописи, даже репортажа... Кстати, именно как своеобразный репортаж, книгу восприняли в Польше, и теперь «Лето-АТО» претендует на престижную репортажную премию Р. Капусцинского...
Когда ты писал свою книгу, чувствовал за собой какую-то литературную традицию?
Я не думал об этом. Мне просто каждый день надо было написать кусок текста. Я ездил на Майдан именно как писатель — наблюдал, думал, интересовался тем, что происходит. Я не принимал активного участия в событиях. Я хотел написать об этом книгу. С самого начала, с самого первого дня.
Это пересекается с тем, что описывал Роберт Грейвз в своей книге «Белая Богиня». Поэт, скальд, который наблюдает за битвой с высокого холма, чтобы написать об этом поэму. К такому поэту никто не имел права и пальцем прикоснуться, ни одна из воюющих сторон.
Во время Майдана я как раз не был на холме, я был в самой гуще, и я понимал, что вот сейчас нужно поймать нерв, нужно зафиксировать настроение. Это была не обычная репортажная фиксация — нужно было описать в первую очередь не то, что я вижу, а то, что все это значит. Я понимал, скорее даже чувствовал, что на моих глазах происходит рождение нового украинского мифа, который будет формировать сознание десятки и сотни лет, и именно его рождение я и хотел отобразить.

Такой немножко провокационный вопрос. Сергей Жадан как-то сказал в интервью, что каждый украинский писатель, если он будет много и качественно работать, заработает себе на достойную жизнь. Что ты скажешь по поводу этого утверждения?
Ну это примерно как, если кто-то из украинских олигархов начнет рассказывать о том, что на самом деле любой украинец, если он будет много и упорно работать, обязательно станет миллионером... Но мы знаем, что это не так. В Украине, как мне кажется, работа писателя — это очень тяжелая и неэффективная работа. Конечно, заработать литературным трудом можно, да, но я очень сомневаюсь, что литература, которую делаю я, когда-нибудь принесет много денег. Конечно, как писатель я, наверно, могу заработать, но пока в Украине трудно заработать такой литературой, которая мне нравится и которую я только и хочу писать. Лично мне намного быстрее и легче зарабатывать по-другому, чтобы потом писать то, что я хочу. Моя проза по своей форме, по своей сущности не может стать коммерческой, хотя продать тираж в тысячу или в несколько тысяч экземпляров вполне возможно... Проблема Украины — это небольшая кормовая база для писателей и небольшое количество писательских стратегий, которые могут привести к успеху...
Какая у тебя писательская стратегия?
Моя любимая литература напоминает магазин деликатесов. Есть деликатесы не только в ресторанах, но и в книжных магазинах, такие себе деликатесы-книжки. Вот я хочу создавать что-то такое. К сожалению, в литературе, в отличие от кулинарии, деликатес стоит столько же, сколько и пирожок из фаст-фуда. Никто не будет платить за книгу, на создание которой ушли годы, как за бутылку редкого коллекционного вина, и никто, скорее всего, не будет печатать ее стотысячными тиражами. Есть такая литература, которая не может писаться быстро, не может писаться много, она должна отлеживается, облизываться, шлифоваться, редактироваться годами. Такая литература тоже нужна, но в Украине писатели, которые с ней работают, не всегда финансово успешны. Возможно, это даже хорошо, так они позволяют себе делать все, что хотят.
А какой смысл в такой литературе, которую так сложно писать?
Есть люди с особыми литературными потребностями (я сам к ним отношусь). Так вот, таким
людям нужна литература особого типа. Есть вещи, которые массовый, читательский писатель просто не заметит. Вот мы сегодня с тобой шли по улице, и ты пробежал мимо маленького, неприметного, банального цветка, потому что спешил брать интервью. Тебя интересовал я. А меня интересовало больше не интервью, но эта весенняя, покрытая мелкой пылью росы, фиолетовая бздюлька рядом с мокрым от весеннего дождя стволом липы. Кстати, именно одну из этих лип я описал в «Лето-АТО». Вот я несколько часов буду втыкать под дождем на этот неприметный весенний мотив, затем, возможно, напишу фрагмент на десять строк об осеннем листке, об окурке, что спрятался под этим листком, будто бомж в палатке, в конце концов, добавлю что-то и об этом незаметном цветке (единственной отраде окурка) — сколько людей в Украине это прочитают? Так немного! Но они есть! И они останутся несчастными без своей литературы.
А с прагматической точки зрения (такая литература трудоемкая, сложная, не будет работать как продукт) что тут делать?
То, что я и делаю — зарабатывать вне литературы для литературы!
Государство должно как-то помогать такой сложной литературе?
Это не ко мне вопрос, это к государству. Если для него несколько сотен или тысяч людей с особыми литературными потребностями что-то значат, конечно, надо поддерживать такую литературу. Хотя, я думаю, здесь вопрос не столько даже к абстрактному государству, сколько к его гражданам, к некоторым (также довольно немногочисленным) жителям этой территории, к их человечности, к их готовности помочь людям с особыми литературными потребностями.
Как ты считаешь, у литературы, искусства есть метафизическая функция?
Не знаю. Пожалуй, что есть. По крайней мере, мне нравится литература, в которой есть метафизическая плоскость. Но я думаю, что такая плоскость не является обязательной, это только один из возможных вариантов.
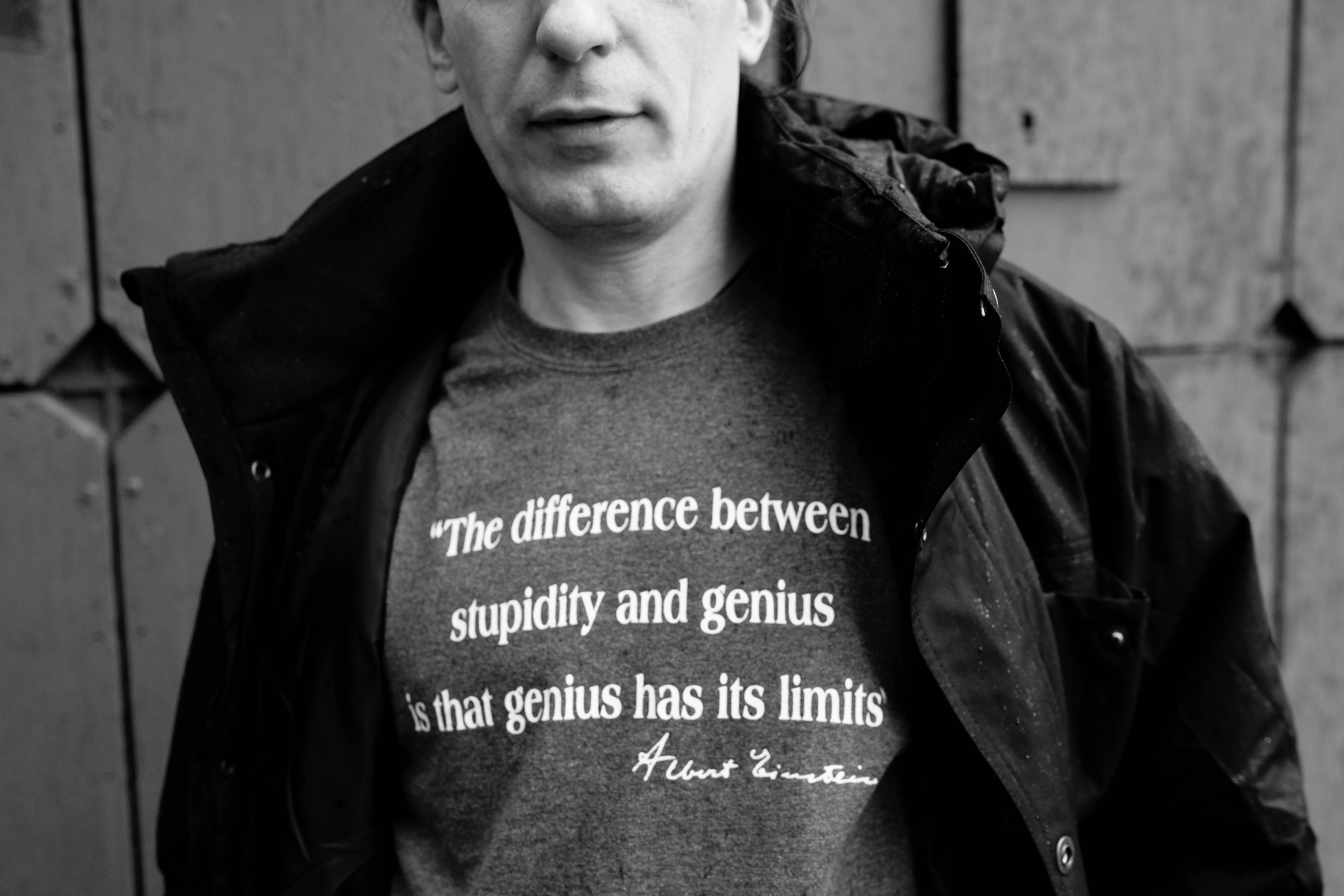
Расскажи о своей актуальной литературной работе? Над чем сейчас работаешь?
Возможно, я один из немногих украинских писателей, которые позволяют себе никуда не спешить в творчестве. Пописал — отложил, чтобы взяться за что-то другое. Недавно я закончил повесть, которую писал перед этим десять лет. Она о писательской даче в Конче Озерной, о ее обитателе, старом советском украинском писателе-классике и, одновременно, стукаче, сексоте. Рассказ-воспоминание его внука. Такая вот мучительная антиномия — внук знает все о своем деде, он не питает по отношению к нему никаких иллюзий, но невероятно любит старого мерзавца... Это что-то очень и очень личное, интимное. В этой повести я стараюсь даже не сформулировать, но только наметить, нащупать свое отношение к украинским писателям советской эпохи. Я и есть этот самый внук...
А сейчас работаешь над чем-то?
Сейчас заканчиваю одну вещь, вернее, собираюсь начать ее заканчивать, если выберусь из Киева в Полтавскую область, на дачу. Пожалуй, ее можно назвать романом, хотя, скорее, это житие... Она так и называется «Житие украинского летуна, героя». Произведение посвящено подвигу летчика, который, сидя на верхушке старого тополя, спас Украину от налёта российской авиации. Этот, на первый взгляд, сумасшедший фрик, сын статуи Ленина и местной женщины, которую все звали Надеждой Константиновной, оказался очень крутым чуваком, типа ребят из добробатов 14-го года. Мне осталось описать смерть главного героя... Это, в известной степени, продолжение и уточнение повести о Конче Озерной. Они похожи, как похожи между собой сосна и тополь ...
Очень интригует! Надеюсь, это кто-нибудь издаст!
Только в том случае, если я не обламаюсь, не увлекусь другой повестью или романом, и закончу «Житие»... А ещё, если, прочитав через некоторое время «Кончу», не решу ее переделать, как уже бывало не один раз в прошлом...
Украинский прозаик, поэт, художник, искусствовед.